
"Творение может пережить творца,
Творец уйдет, природой побежденный.
Однако образ, им запечатленный
Веками будет согревать сердца"
Микеланджело.


«Я – святой дух! Я в своем уме!». Винсент Ван Гог,
О легендарном художнике Винсенте Ван Гоге за сто с лишним лет после его смерти сказано и написано столько, что добавить в его биографию вроде бы уже и нечего. Но даже при беглом рассмотрении доступных в интернете материалов о великом художника, нельзя не заметить, что это огромное количество материалов, и научного, и популярного характера полны противоречий. Только предположительных диагнозов о душевной болезни Ван Гога (многие из них поставлены известными учёными, в числе которых Ясперс, Шапито, Минковский), противоречащих друг другу, можно насчитать десятки. Ещё удивительнее – "мифы и легенды" о Ван Гоге продолжают рождаться чуть ли не каждый день, внеся путаницу и без того запутанную биографию художника. С точки зрения искусствоведов (которые, как ни странно, при жизни художника в его картинах видели в лучшем случае крайнюю форму примитивизма), Ван Гог в своем творчестве ушёл далеко вперёд от традиционного искусства. Считается, что Ван Гог первым в истории живописи сумел использовать краски для выражения чистых эмоций, кардинально изменив тем самым критерий живописи. В оправдание гениальности Ван Гога цитируются его мысли, с которыми он делился в своих многочисленных письмах с братом Теодором, считая эти мысли, (больше напоминающие житейские реплики), очень ясно объясняют сложную систему философских и художественных воззрений художника.
Жизнь Ван Гога как человека, была полна трагедий. За свою короткую жизнь он умудрился сполна испытать и муки гонений, и горечь одиночества, и ужас сумасшествия, и, наконец, двух дневную предсмертную агонию. Жизненный путь Ван Гога – это сплошная, порой героическая, борьба с проблемами, которых он сам и создавал для себя. Ван Гогу не везло с первого дня появления на свет – при рождении ему дали имя его умершего старшего брата, которое превратилось в своеобразный "дамоклов меч", опустившийся в конце концов на голову художника. Ван Гога к сумасшествию привели и другие трагические обстоятельства его жизни: он глубоко переживал свой провал в проповеднической деятельности; ему не повезло на любовном поприще; провалилась его идея создания творческой комунны; наконец, из-за своих «странностей» был отвергнут обществом не только как художник, но и как личность.
О природе душевных болезней психиатрия времен Ван Гога мало что знала. Единственным прогрессом в этой области был выход закона о гуманном отношении к душевнобольным, в чем очень повезло Ван Гогу – были отменены средневековые методы «лечения". Но тем не менее диагнозы, поставленные Ван Гогу врачами при жизни художника и диагнозы поставленные задним числом после его смерти, не вызывают сомнения о серьёзных отклонения в психике художника. Поэтому главный вопрос, который стоит на «повестке дня" – была ли вообще в Ван Гоге гениальность художника?. Ответ на данный вопрос, поиском которого, насколько я понял, пока безрезультатно занимаются исследователи, мог бы проставить «все точки над i», объяснив наконец природу странного и противоречивого образа жизни художника. Мне же кажется, что причиной безрезультатности поиска является наше желание "видеть то, чего мы желаем видеть". Но если содержание этого «желания» изменить на «видеть то, чего боимся видеть", то оно подтолкнуло бы нас на другую догадку – не была ли причиной и гениальности, и сумасшествия Ван Гога, весьма банальная вещь, как СТРАХ СМЕРТИ? (Страх не физической смерти, а страх перед"вечным забвением").
Ролью и значением феномена страха смерти в судьбе человечества нельзя пренебрегать. По сути вся культура человечества – начиная от изготовления каменного топора до построек вековых пирамид, великих завоевательских походов, рождения мировых религий, возникновений философии, науки и, наконец, страстного желания к освоению космоса и поиска внеземные цивилизаций – развивалась и развивается благодаря именно страху смерти. Под постоянным воздействием страха смерти мы уже в течении семи миллионов лет ищем для себя путь к бессмертию и смысл нашего существования. Но страх смерти может иметь разрушительный характер при воздействии на психику людей (в число которых можно отнести и Ван Гога), у которых сознательная часть мозга «не в ладу" с областью мозга, где мы обычно прячем свой страх смерти, то есть, с нашим бессознательным (вероятнее всего в семье Ван Гога предрасположенность к душевной болезни имели и другие члены, так как чрезмерная набожность тоже является сутью не адекватного отношения между сознанием и бессознательным). И если внимательно проследить весь жизненный путь Ван Гога, и как человека, и как художника, то можно заметить как страх смерти достаточно сильно и последовательно тревожил его сознание, постепенно разрушая мозг. Вся энергия Ван Гога до последних минут жизни была направлена на борьбу с этим феноменом. Эта борьба, одновременно с безрезультатной попыткой разгадки природы самого феномена, наглядно проявлялись во всех аспектах его деятельности. К примеру, его проповедническую деятельность можно трактовать и как попытку преодолеть страх смерти через самопожертвование (в этом деле он переусердствовал настолько, что своим поведением встревожил и самих шахтёров (людей дна), на "спасение душ" которых была направлена проповедническая деятельность), и как бессознательное «любопытство" заглянуть за занавес земного бытия (подземелье, в данном случае шахта, в человеческой культуре ассоциируется с потусторонним миром, а в учении Фрейда и Юнга является символом человеческого бессознательного).
Не найдя ответа на природу своих душевных тревог в проповеднической деятельности, Ван Гог бросается в другую крайность – в своеобразное бегство из «тьмы (от религиозности, в которой он не нашёл "спасения") к свету», (в пигмалионовы грезы). Этот "побег" проявляется и в его отъезде из пасмурных Нидерландов в залитый солнечным светом Арль. Это видно и из его картин, где происходит резкий переход от тёмных тонов к ярко светлым. В картинах появляются жизнеутверждающие мотивы, через которые Ван Гог вновь пытается разгадать и смысл бытия, и секрет бессмертия.
Но страх смерти, уже достаточно крепко обосновавшийся в больном мозгу художника, снова начинает его тревожить. На картинах Ван Гога вновь появляются предметы и цвета, символизирующие смерть: две вороны на картине «Сеятель" (образ смерти - вороны, помещены позади сеятеля и сеятель (Ван Гог), пытается не замечать смерть). Образом смерти (тут уже художник замечает его присутствие) является и ствол дерева, перегораживающий дорогу сеятеля на другом варианте картины «Сеятель". На картине «Ночная тераса кафе" Ван Гог пытается отгородить свет терасы пологом от трех тёмных силуэтов зданий в конце улицы (расположенные на одном уровне по два окна в каждом из этих зданий, похожи на глаза, устремленные в сторону "света"). Себя же Ван Гог отгораживает от зданий листвой дерева. О смерти напоминает и одинокая свеча (поминальная свеча) на пустом стуле Гогена, и трубка без хозяина на стуле самого художника, и спальня, напоминающая аккуратно убранную спальню покойника. В картине «Красные виноградники в Арле» деревья, изображённые слева не естественно наклонный и больше похожие на тучи, как бы тянутся в сторону виноградника, в попытке накрыть и виноградник, и крестьян, работающих на поле (впервые в арльский период Ван Гог использует красный цвет (цвет тревоги), а деревья на картине приобретают отрицательные качества). На картине «Пейзаж в Овере после дождя" на одинокой телеге без возничего громоздится тёмный предмет, похожий на гроб. На картине «Валуны и дуб", расположение валунов напоминают змею, подползающую к дубу, а дуб, символ силы и долголетие, беспомощно и в тревоге смотрит на змею, несущую ему смерть. Даже «жизнеутверждающие" подсолнухи художника имеют потрепанный вид и смотрят на мир с испугом и растерянностью.
Одновременно Ван Гог пытается искать «спасение» от смерти в образах кипарис (в мифологиях южноевропейских стран кипарис символизирует вечную жизнь). К арльскому периоду относятся и создания Ван Гогом большинства своих автопортретов – идентификация самого себя.
Но постепенно осознание Ван Гогом тщетности поиска бессмертия начинает брать вверх. Это видно в изображении дорог, ведущих в никуда (три дороги как символ иррациональности выбора)и огромной стаи ворон, которых он устал отпугивать пугачем на пленэре(картина «Пшеничное поле с воронами"). Кипарисы, в которых он искал свое спасение, на картине "Звёздная ночь", написанный им незадолго до своей кончины, обрели зловещую форму. Завихрения на той же картине указывают на момент душевного отчаяния (такие завихрения пространства изобразил Мунк в своей картине «Крик", созданный им в период душевного кризиса). На картине «Белый дом ночью" в центре картины изображена старуха в чёрном одеянии («человек в черном" приходил к Моцарту незадолго до смерти композитора, «человека в черном" встречал во время своей прогулки и Гете перед смертью, Есенин успел даже написать стихотворение «Чёрный человек"). Интерпретация идеи своих картин в жизнеутверждающих тонах так же доказывает попытку Ван Гога избегать мысли о смерти.
Одновременно с потерей художником надежды на "вечную жизнь", страх смерти с ещё большей интенсивностью начинает разрушать его мозг. В картинах Ван Гога начинают преобладать плоские изображения, искажаются линии, предметы приобретают уродливые формы (кульминацией разрушения мозга, потерявшего способность создавать правильные образы, является последняя картина Ван Гога «Корни деревьев", написанная за несколько часов до попытки самоубийства).
Несмотря на все это Ван Гог продолжает героически бороться со своим «недугом", максимально используя моменты просветления разума (подсчитано, что Ван Гог во время своего пребывания в клинике для душевнобольных, писал по одной картине каждые три дня и это без вычета дней, когда он был «болен"). Слова Ван Гога «Я вложил свое сердце и душу в свою работу, и я сошёл с ума в процессе", где-то в глубине его сознания возможно звучало иначе: «Я вложил свое сердце и душу в свою работу, чтобы не сойти с ума".
Но к сожалению, как сам Ван Гог признался в последние минуты перед смертью своему брату Теодору что «печаль будет длиться вечно", страх смерти продолжал следовать по его пятам, шаг за шагом отнимая у него надежду на бессмертие и усиливая в его сознании чувство безысходности. В конце концов, не найдя спасение от смерти ни на земле, ни на небесах, легендарный художник находит спасение в самой смерти – отрицание очевидной истины привело к разрушению.
На мой взгляд картины Ван Гога все-таки являются шедеврами, но шедеврами, созданные не в результате сознательно акта, а как продукт титанической борьбы с «небытием».
Двесов Б., 31, 01, 2021, г. Нур-Султан

31 декабря 2019 года исполняется 150 лет со дня рождения величайшего художника мира - Анри Матисс.
Причуды случая.
Удивительная вещь – случай! Какая-нибудь мимолетная встреча, случайный разговор, несколько строк прочитанного текста или даже чей-то взгляд, жест, может иногда круто изменить нашу жизнь, направить ее течение по, совсем, другому руслу или открыть дверь в неведомый нами, доселе, мир. Именно такое случилось в жизни одной замечательной женщины, биография которой по воле Случая была поделена на две половины – полную трагедии и неопределенности, до и яркую, наполненную смыслом, после.
В короткометражном фильме «Эмилия Мюллер» французского кинорежиссера Ивона Марсиано, героиня фильма рассказывает о некой женщине, которая каждое утро оставляет свежие цветы на могиле художника Анри Матисс. Когда я впервые смотрела этот фильм то подумала, что это, скорее всего, удачная выдумка сценариста или же красивая легенда, которыми обрастают биографии знаменитостей. О творчестве самого художника Анри Матисс к тому моменту я имела весьма смутное представление. Но недавно данный короткометражный фильм снова мелькнул в мониторе компьютера. Я вспомнила сюжет фильма и решила, все же, заглянуть в биографию знаменитого художника в надежде найти какую-нибудь информацию о таинственной женщине. К моему удивлению в жизни Анри Матисс действительно была женщина, образ которой оставил довольно заметный след в его биографии. Скорее всего о ней и рассказывалось в фильме. Ее звали Лидия Делекторская. Биография этой женщины может назваться легендарной
Лидия Делекторская родилась в 1910 году в городе Томск в семье врача. В тринадцать лет осталась круглой сиротой. Родственники увезли ее из Томска в далекий Харбин. С Харбина Лидия Делекторская эмигрировала во Францию. Во Франции жила случайными заработками, так как по французским законам тех лет эмигранты не имели право иметь постоянную работу. К художнику Матиссу попала случайно – на автобусной остановке города Ницца, куда приехала в поисках работы, прочитала объявление о том, что некий художник ищет себе секретаря. Работа оказалась временной – Матиссу нужен был помощник, чтобы в срок закончить заказ. Когда работа была закончена художник уволил Лидию, и она в очередной раз оказалась на улице. Но судьба все же улыбнулась ей – у знаменитого художника заболела жена и Лидию вновь пригласили на работу, теперь уже в качестве сиделки. Скромная и исполнительная, она очень скоро стала другом семьи и прожила в доме художника более двадцати лет. И, все же, не одни положительные человеческий качества послужили поводом задержки Лидии Делекторской в доме художника на столь долгий срок. В душевном облике Лидии Делекторской Матисс нашел нечто непомерно возвышенное. Ее богатый внутренний мир вдохновлял художника на создание им почти всех его шедевров последних лет жизни. Для него это было время ослепительного взрыва творческой энергии. Художественные образы, сюжеты, темы возникали внезапно и тут же запечатлевались навечно на холсте или бумаге. Лидия Делекторская стала музой, смыслом жизни художника и продолжала оставаться частью гения Матисса даже после его смерти. «Мадам Лидия, кто Вас не полюбит? Только тот, кто не имеет счастья Вас знать такую белокурою и скромную», - с нежностью писал ей художник в одном из своих писем
Писатель Даниил Гранин так отзывается о музе Гения: - «Все в ее облике привлекало ясностью. Почему-то не могу назвать ее красавицей, но Матисс рисовал ее с восхищением».
После смерти Анри Матисс Лидия Делекторская написала две книги о творчестве художника, одна из которых была удостоена Премии Академии Франции. Принимала активное участие в создании музея художника в его родном городе. Подарила Эрмитажу и Музею изобразительных искусств имени Пушкина все картины, унаследованные ей великим мастером.
О самой Лидии Делекторской написаны книги и сняты документальные фильмы. В Эрмитаже и Музее изобразительных искусств имени Пушкина в ее честь были проведены художественные выставки.
Лидия Делекторская скончалась в 1998 году, в Париже, пережив Анри Матисс на сорок четыре года. Ее прах был перенесен в Россию. На ее могильном камне высечены такие слова: «Матисс сохранил ее образ для вечности».
Вот так, Его Величество Случай через коротенькое объявление на клочке бумаги круто изменил жизнь двух людей, родившихся в разное время на разных концах света, а человечеству подарил бесценные сокровища искусства.
Но это еще не все. В 1911 году по приглашению русского коллекционера Сергея Щукина, Анри Матисс был две недели в Москве. Среди прочих достопримечательностей города, художник посетил Московское синодальное певческое училище и слушал в концертном зале учебного заведения старинные русские напевы. Московское синодальное училище в 1918 году было переформировано в Московскую народную хоровую академию, а в 1923 году Академия была объединена с Московской государственной консерваторией. В концертном зале бывшего училища, который теперь носит имя композитора Рахманинова, и, где более ста лет назад великий художник слушал голоса русских певчих, уже шестой год проходят мои занятия по музыке. Опять случай или мир так тесен?
P.S.
31 декабря этого года исполняется 150 лет со дня рождения Анри Матисс, а летом следующего, 2020, года – 110 лет Лидии Делекторской. По мой просьбе, моя сестра написала картину, которую мы посвятили двум великим личностям – Анри Матисс и Лидии Делекторской, огромный и прекрасный мир которых я открыла для себя по воле Случая.
Адилхан Акбопе, Москва, МГК им. П.И. Чайковского, январь, 2019 г

 "Анна Ахматова". Работа А. Модильяни. 1911г. Париж.
"Анна Ахматова". Работа А. Модильяни. 1911г. Париж.
К 135-ти летию Амедео Модильяни.
12 июля исполняется 135 лет со дня рождения великого французского художника двадцатого столетия Амедео Модильяни. Он скончался в возрасте 35 лет в страшной нищете. Мир признал Модильяни великим художником только после его смерти. Сейчас его картины на аукционах оцениваются в миллионы. Правда, был у художника короткий, но прекрасный, наполненный до краев счастьем, период – роман с поэтессой Анной Ахматовой, где две великие личности смогли воспылать страстью друг к другу. Анна Ахматова спустя почти полвека описала свои воспоминания о встрече с итальянским художником и их непродолжительном, но очень ярком романе, ставшим источником вдохновения для многих их работ, в своем произведении «Амедео Модильяни». Текст приводится полностью.
Анна Ахматова.
«Амедео Модильяни».
Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала, и вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности (сияющую) — ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная двадцатилетняя женщина, иностранка; во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся.
В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне1. Что он сочинял стихи, он мне не сказал.
Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял: "Передача мыслей..." Часто говорил: "Это можете только вы".
Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его — очень короткой, моей — очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания.
Жил он тогда (в 1911 году) в тупикe Фальгьера. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 1911 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом.
Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах. Очевидной подруги жизни у него тогда не было. Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности (что, увы, делают все). Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа.
В это время он занимался скульптурой, работал во дворике возле своей мастерской, в пустынном тупике был слышен звук его молоточка. Стены его мастерской были увешаны портретами невероятной длины (как мне теперь кажется — от пола до потолка). Воспроизведения их я не видела — уцелели ли они? Скульптуру свою он называл вещью — она была выставлена, кажется, у "Независимых" в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография с этой вещи.
В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное (tout le reste) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют негритянским периодом.
Он говорил: "Драгоценности должны быть дикарскими"(по поводу моих африканских бус) и рисовал меня в них. Водил меня смотреть cтарый Париж за Пантеоном ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Он сказал: "Я забыл, что посередине находится остров". Это он показал мне настоящий Париж.
По поводу Венеры Милосской говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях.
В дождик (в Париже часто дожди) Модильяни ходил с огромным очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь, около дремал cтарый дворец в итальянском вкусе, а мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи.
Я читала в какой-то американской монографии, что, вероятно, большое влияние на Модильяни оказала Беатриса X., та самая, которая называет его жемчужина и поросенок. Могу и считаю необходимым засвидетельствовать, что ровно таким же просвещенным Модильяни был уже задолго до знакомства с Беатрисой X., т. е. в 10-м году. И едва ли дама, которая называет великого художника поросенком, может кого-нибудь просветить.
Люди старше нас показывали, по какой аллее Люксембургского сада Верлен, с оравой почитателей, из "своего кафе", где он ежедневно витийствовал, шел в "свой ресторан" обедать. Но в 1911 году по этой аллее шел не Верлен, а высокий господин в безукоризненном сюртуке, в цилиндре, с ленточкой Почетного легиона, — а соседи шептались: "Анри де Ренье!"
Для нас обоих это имя никак не звучало. Об Анатоле Франсе Модильяни (как, впрочем, и другие просвещенные парижане) не хотел и слышать. Радовался, что и я его тоже не любила. А Верлен в Люксембургском саду существовал только в виде памятника, который был открыт в том же году. Да, про Гюго Модильяни просто сказал: "А Гюго выскопарен?".
Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла.
Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. "Не может быть, — они так красиво лежали..."
Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами.
То, чем был тогда Париж, уже в начале двадцатых годов называлось старый Париж или довоенный Париж. Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались "Встреча кучеров", и еще живы были мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но тогда говорили "Пикассо и Брак". Ида Рубинштейн играла Шехерезаду, становились изящной традицией Дягилевский русский балет (Стравинский, Нижинский, Павлова, Карсавина, Бакст).
Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к десятым годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа XX века. Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 1910 года была поставлена "Жар-птица". 13 июня 1911 года Фокин поставил у Дягилева "Петрушку".
Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдиссона, показал мне в кабачоке Пантеон два стола и сказал: "А это ваши социал-демократы — тут большевики, а там -меньшевики". Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravues). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.
Рене Гиль проповедовал "научную поэзию", и его так называемые ученики с превеликой неохотой посещали мэтра.
Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк.
Et Jehanne, la bonne Lorraine,
Qu'Anglois brulиrent a Rouen…
Я вспомнила эти строки бессмертной баллады, глядя на статуэтки новой святой. Они были весьма сомнительного вкуса, и их начали продавать в лавочках церковной утвари.
Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки (например, в "Аполлоне" 1911 г.). Над "аполлоновской" живописью ("Мир искусства") Модильяни откровенно смеялся.
Mеня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала: он, наверно, видит все не так, как мы.
Во всяком случае, то, что в Париже называют модой, украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяни не замечал вовсе.
Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, — эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы Революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие "ню"...
Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов: Верлена, Лафорга, Малларме, Бодлера.
Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда еще не знала итальянского языка.
Как-то раз сказал: "Я забыл Вам сказать, что я — еврей". Что он родом из-под Ливорно — сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а было ему — двадцать шесть.
Говорил, что его интересовали авиаторы (по-теперешнему — летчики), но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?).
В это время ранние, легкие и, как всякому известно, похожие на этажерки, аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современницей (1889) — Эйфелевой башней.
Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов. Но это уже нечто гулливеровское.
Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливало в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило — Чарли Чаплин. "Великий Немой" (как тогда называли кино) еще красноречиво безмолвствовал.
"А далеко на севере"... в России умерли Лев Толстой, Врубель, Вера Комиссаржевская, символисты объявили себя в состоянии кризиса, и Александр Блок пророчествовал:
если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней...
Три кита, на которых ныне покоится XX в. — Пруст, Джойс и Кафка, — еще не существовали, как мифы, хотя и были живы, как люди.
В следующие годы, когда я, уверенная, что такой человек должен просиять, спрашивала о Модильяни у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же: не знаем, не слыхали.
Только раз Н. С. Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 г.) и я упомянула имя Модильяни, назвал его "пьяным чудовищем" или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяни протестовал. А жить им обоим оставалось примерно по три года...
К путешественникам Модильяни относился пренебрежительно. Он считал, что путешествие — это подмена истинного действия. "Песни Мальдорора" постоянно носил в кармане; тогда эта книга была библиографической редкостью. Рассказывал, как пошел в русскую церковь к пасхальной заутрене, чтобы видеть крестный ход, так как любил пышные церемонии. И как некий "вероятно, очень важный господин" (надо думать — из посольства) похристосовался с ним. Модильяни, кажется, толком не разобрал, что это значит...
Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу... А я услышала о нем очень много...
В начале нэпа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова (Ленинград, Моховая, 36, издательство "Всемирная литература"). Тогда снова наладились почтовые сношения с заграницей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то (во время заседания) передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла — фотография Модильяни... Крестик... Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он — великий художник XX века (помнится, там его сравнивали с Боттичелли), что о нем уже есть монографии по-английски и по-итальянски. Потом, в тридцатых годах, мне много рассказывал о нем Эренбург, который посвятил ему стихи в книге "Стихи о канунах" и знал его в Париже позже, чем я. Читала я о Модильяни и у Карко, в книге "От Монмартра до Латинского квартала", и в бульварном романе, где автор соединил его с Утрилло. С уверенностью могу сказать, что этот гибрид на Модильяни десятого — одиннадцатого годов совершенно не похож, а то, что сделал автор, относится к разряду запрещенных приемов.
Но и совсем недавно Модильяни стал героем достаточно пошлого французского фильма "Монпарнас, 19". Это очень горько!
Болшево, 1958-Москва, 1964.
Есенова А., июль, 2019 г.

И. Босх.
 "Корабль дураков", И. Босх.
"Корабль дураков", И. Босх.
Приблизительно 570 лет назад родился самый загадочный живописец в истории человечества Иерохим Босх.
«Кто бы был в состоянии рассказать о всех тех бродивших в голове Иерохима Босха удивительных и странных мыслях, которые он передавал с помощью кисти, и о тех привидениях и адских чудовищах, которые часто более пугали, чем услаждали смотревшего!», - так писал о Босхе его современник Карел ван Мандер.
Заметка из интернет-журнала "Нур кисса", ссылка на журнал в соц. сетях - Искусство. Нур кисса. г. Астана.http://nurkissa.kz/izobrazitelnoye-iskusstvo


Бумага, гуашь, Двесова Улбосын
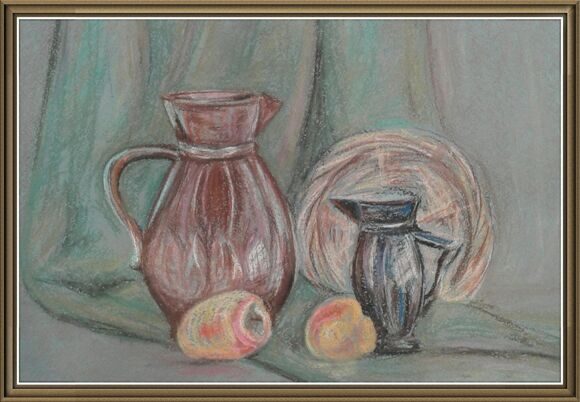
Бумага, пастель, Двесова Улбосын.


Бумага, акварель. Двесов Б. Астана, 2019 г.

Бумага, акварель,. Двесов Б. Астана. 2019 г.

Холст, масло, Есенова Асем, Астана, 2019 г.
